Феномен Лавкрафта, или Перепрочтение хоррора

Одним из достоинств ролевой игры Stygian: Reign of the Old Ones является, помимо грамотнейших отсылок к произведениям Говарда Лавкрафта, обилие отсылок характера общегуманитарного. От повредившегося в уме при виде своей убитой лошади полицейского (случай Ницше) и до черной пирамиды в инопланетном мире, в чем усматриваются параллели с «Космической одиссеей» Стэнли Кубрика. Но и за саму глубину погружения в лавкрафтиану разработчиков хочется просто поблагодарить: они не пошли простым путем — не стали брать то, что лежит на поверхности, причем лежит плохо, и уже давно. Ведь не секрет, что презиравший всякую коммерцию Лавкрафт стараниями разных ушлых дельцов со временем сделался фигурой в чем-то даже попсовой. Например, автор этой статьи недавно видел «самую страшную раскраску» на тему «Зова Ктулху», да и артбуки по мотивам вряд ли затеваются от бескорыстной любви к изобразительному искусству.
Между тем одной благоприятной конъюнктурой популярность писателя в наши дни объяснить нельзя: большинство читателей Лавкрафта читают его не потому, что модно и на слуху, а потому, что находят в нем нечто глубоко созвучное мыслям современного человека. Но и так сказать — банально чуть не до пошлости. Вдобавок самого писателя уже давно считают одним из столпов хоррора, но вот с самим осмыслением хоррора (horror studies) до сих пор дела не очень: сказывается групповщина с примесью обиды за то, что жанр долго не замечали. Поэтому сегодня мы расскажем о таком перепрочтении хоррора, которое, по сути, является его новым открытием — и заодно открывает ему доступ в такие области, куда хоррору, казалось бы, по определению вход закрыт.
Философия ужаса
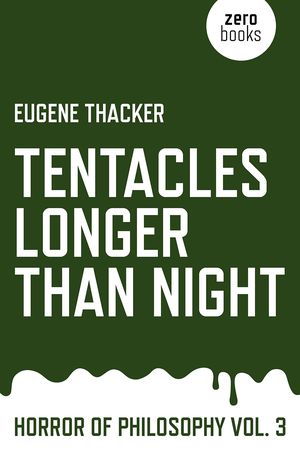 Юджин Такер (Университет «Новая Школа» в Нью-Йорке) — возможно, личность наиболее колоритная из всех, чьи штудии мы вкратце рассмотрим. Исследователь медиа и биотехнологий, оккультизма и христианской мистики, космический пессимист, как он сам себя называет, в своем проекте Horror of Philosophy Такер предложил, вполне в своем духе, весьма экстравагантный подход. Смысл в том, чтобы читать философские труды, как если бы они были художественными сочинениями в жанре хоррор, и наоборот — хоррор-литературу читать как философские труды. Этому как раз и посвящен том «Tentacles longer than night» («Щупальца длиннее ночи»), где подобным образом читаются По, Лавкрафт, Данте, манга Дзюндзи Ито, а также комментируется ряд фильмов ужасов.
Юджин Такер (Университет «Новая Школа» в Нью-Йорке) — возможно, личность наиболее колоритная из всех, чьи штудии мы вкратце рассмотрим. Исследователь медиа и биотехнологий, оккультизма и христианской мистики, космический пессимист, как он сам себя называет, в своем проекте Horror of Philosophy Такер предложил, вполне в своем духе, весьма экстравагантный подход. Смысл в том, чтобы читать философские труды, как если бы они были художественными сочинениями в жанре хоррор, и наоборот — хоррор-литературу читать как философские труды. Этому как раз и посвящен том «Tentacles longer than night» («Щупальца длиннее ночи»), где подобным образом читаются По, Лавкрафт, Данте, манга Дзюндзи Ито, а также комментируется ряд фильмов ужасов.
Такер особо отмечает, что ужас — локализован во времени, он не воплощен в собственно пугающем и сверхъестественном. Ужас — этот тот момент (иногда долгий, впрочем), когда природа пугающего и сверхъестественного еще не определена. «Вилка», так сказать, между двумя возможными объяснениями: или всё, что происходит, происходит только в моей голове, и естественный порядок вещей не нарушен, или же события действительно происходят в реальности, и тогда реальность оказывается куда как обширнее, чем мне представлялось. «Или я не знаю мира, или я не знаю (здесь и сейчас) самого себя», — итожит Такер.
Так или иначе, собственно пугающее и сверхъестественное классического хоррора вызвано нарушениями естественного порядка, сбоем природных ритмов и поэтому определенно подлежит какому-нибудь, одному из двух, разумному объяснению. С лавкрафтовским сверхъестественным (обозначим его как космическое), ставшим рубежом хоррора принципиально иного, всё обстоит не так.
 Такер обращает внимание на то, как описывают природу того неименуемого, с чем они столкнулись, персонажи Лавкрафта, и обращает внимание вот на что (сцена бегства от шогготов в финале «Хребтов безумия», например). Писатель вовсе не случайно использует нагромождения «жутких» клише, которые о предмете описания не говорят ничего и только призваны обозначить атмосферу. Космический ужас Лавкрафта (и модерного хоррора, понятно) — это ужас, связанный не со сбоем в естественном порядке вещей, но с самими границами способностей человека помыслить и осмыслить увиденное. Один из участников сцены бегства, скажем, подбадривает себя перечислением станций метро — просто потому, что иначе, кроме как по доступной и понятной человеческому сознанию аналогии, объяснить увиденное невозможно.
Такер обращает внимание на то, как описывают природу того неименуемого, с чем они столкнулись, персонажи Лавкрафта, и обращает внимание вот на что (сцена бегства от шогготов в финале «Хребтов безумия», например). Писатель вовсе не случайно использует нагромождения «жутких» клише, которые о предмете описания не говорят ничего и только призваны обозначить атмосферу. Космический ужас Лавкрафта (и модерного хоррора, понятно) — это ужас, связанный не со сбоем в естественном порядке вещей, но с самими границами способностей человека помыслить и осмыслить увиденное. Один из участников сцены бегства, скажем, подбадривает себя перечислением станций метро — просто потому, что иначе, кроме как по доступной и понятной человеческому сознанию аналогии, объяснить увиденное невозможно.
Лавкрафтовский ужас, таким образом, это ужас от осознания человеком полной бессмысленности своих потуг хоть как-то высказаться об увиденном, ужас, если в терминах, от пустоты коррелята между человеком и миром. Помыслить увиденное для персонажей Лавкрафта — значит положить предел и себе как мыслящим существам. Можно увидеть много, можно не увидеть вообще ничего, но это ни на что не влияет: космическое сверхъестественное двоится, оно и вездесущее, и оно же нигде — «сияние извне, которое пришло оттуда, где всё не так, как у нас». Лавкрафтовский ужас — в самом том факте, что единственно доступным и спасительным для сохранения хоть части рассудка оказывается описывать увиденное через отрицание каких-либо его качеств. Космическое сверхъестественное (для человека) оборачивается самым что ни на есть естественным (состоянием для самого Космоса), вот только такому миру собственно человек безразличен, и в этом — весь ужас. Подсознательный кошмар среднего жителя Новейшего времени. Человек уже не в состоянии понять чужое, у которого возможно лишь спросить: «Что я сам такое для тебя?»
Такер обоснованно указывает на то, что причина этого кошмара — в том числе и современная наука. Ведь с ней та же «вилка»: повседневный опыт никак не соответствует ее выводам, зачастую противоречит им, даже противится. Уже микроскоп вскрыл монструозность органической жизни. Мы об этом не задумываемся сознательно, потому что в школе проходили биологию, но, если разобраться, это из пробирки вышли жуткие представления о жизни, которая не является ничем живущим, о таком живущем, которое не является живым в том смысле, в каком живым является живое, в обыденном представлении, существо.

«Темный виталист» Бен Вудард в исследовании «Динамика слизи» охотно обращается за подобными примерами к Лиготти, Лавкрафту, «Нечто», играм вроде Dead Space. Говоря о тех же шогготах Лавкрафта, он отмечает: их образ следует связать с той мыслью, что оформленность и четкая идентифицируемость конкретной сущности — далеко не обязательное условие чувствующей и даже разумной жизни. Но и на уровне чисто телесных представлений ужасы поджидают человека повсюду. Вот что замечает Такер по поводу первого истинно лавкрафтианского рассказа «Дагон». Персонаж испытывает отвращение к человечеству, когда видит вылезшую из пучин тварь, очевидно более древнюю, чем человек, потому что понимает: затерянные в глубине миллионов лет корни двух биологических видов переплетены в одно. Вместе с тем он одновременно и презирает человечество — за то, что оно не в состоянии спокойно принять и понять мир, который оказался не «домашним», а чужим и странным.
Корпореальность
 Из сочинений, использованных в сегодняшнем обзоре, наибольший интересе представляет «Нечто. Феноменология ужаса» — работа Дилана Тригга из Венского университета. Многие пеняют автору на то, что в книге мало собственно авторских оригинальных идей, но в данном случае важнее, опять-таки, метод. Тригг помещает в контекст мыслителей «второго эшелона» (Мерло-Понти, Левинас) повести Лавкрафта и хоррор-фильмы Карпентера и Кроненберга — еще один вариант «на стыке жанров». Тема же работы — телесный ужас, что довольно актуально в наши дни, когда публичные рассуждения о границах прав индивидуума на свое тело сводятся к (анти)либеральным мантрам.
Из сочинений, использованных в сегодняшнем обзоре, наибольший интересе представляет «Нечто. Феноменология ужаса» — работа Дилана Тригга из Венского университета. Многие пеняют автору на то, что в книге мало собственно авторских оригинальных идей, но в данном случае важнее, опять-таки, метод. Тригг помещает в контекст мыслителей «второго эшелона» (Мерло-Понти, Левинас) повести Лавкрафта и хоррор-фильмы Карпентера и Кроненберга — еще один вариант «на стыке жанров». Тема же работы — телесный ужас, что довольно актуально в наши дни, когда публичные рассуждения о границах прав индивидуума на свое тело сводятся к (анти)либеральным мантрам.
«За гранью времен» Лавкрафта повествует о профессоре Пизли, который, испытав припадок во время лекции, в течение последующих нескольких лет «не был самим собой». Позже выяснилось, что его тело оказалось захвачено сознанием представителя Великой расы Йит, само же сознание Пизли — перемещено в тело йотианца, что обитал на Земле в Меловом периоде. Спустя несколько десятилетий, проводя раскопки в пустыне Австралии, Пизли обнаруживает — в прямом смысле — следы своего пребывания на планете в доисторический период.
Поместив этот фантастический рассказ в феноменологическое поле, можно вскрыть подсознательные истоки одного из главных страхов современного человека — страха потерять самого себя, лишиться своего собственного «Я». Быть человеком — значит в том числе обладать безусловным правом на свою телесную субъективность, но ужас у Лавкрафта как раз и заключается в том, что обычный человек, Пизли-субъект, этого права лишен. Его тело обладаемо (possessed) еще одним субъектом — кем-то, кто Пизли абсолютно чужд, причем ужас усиливает тот факт, что этот субъект — анонимный и доисторический. Последнее ставит под сомнение уже и саму возможность личностной самоидентификации конкретного человека Пизли. Проживаемый им опыт с некоторого момента начинает складываться из опыта современного профессора Пизли и доисторического существа-йотианца.
 Фантастичность допущения (насильственный обмен сознаниями) обнажает, тем не менее, весь ужас следующего предположения. Отдельная субъективная человеческая личность переплетена с чем-то доличностным, а сама возможность личностного существования немыслима без предыстории конкретного субъекта, которая сама по себе анонимна и затеряна где-то во времени. Рассказ Лавкрафта актуализируется в контексте «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти, где, собственно, двойственность субъекта, который одновременно «в-себе» и «вне-себя», и исследуется. Возможно, устоявшееся разделение на «природу» и «культуру», «цивилизацию» — в какой-то степени от неосознанного стремления компенсировать ужас такого предположения строго рациональными доводами.
Фантастичность допущения (насильственный обмен сознаниями) обнажает, тем не менее, весь ужас следующего предположения. Отдельная субъективная человеческая личность переплетена с чем-то доличностным, а сама возможность личностного существования немыслима без предыстории конкретного субъекта, которая сама по себе анонимна и затеряна где-то во времени. Рассказ Лавкрафта актуализируется в контексте «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти, где, собственно, двойственность субъекта, который одновременно «в-себе» и «вне-себя», и исследуется. Возможно, устоявшееся разделение на «природу» и «культуру», «цивилизацию» — в какой-то степени от неосознанного стремления компенсировать ужас такого предположения строго рациональными доводами.
Знание культурных регистров позволяет также отметить и то, что «За гранью времен» причудливо (weird) развивает традиционные представления о жутком. В частности, представления о двойнике (doppelganger) и о болезнях вроде эпилепсии, когда в состоянии припадка тело начинает действовать самостоятельно, «на автомате», как будто оно вовсе и не связано со своим обладателем, конкретным «Я».
Обратимся теперь к такому экстремальному телесному ужасу, когда материальный объект оживляется, скажем так, аналогом «анонимного доличностного», что разрушает привычные человеку субъект-объектные отношения. В «лавкрафтианском» (с толикой «стивенкинговского») фильме Карпентера «В пасти безумия» книги писателя хорроров Кейна сводят — буквально — людей с ума. Перед выходом своего очередного бестселлера Кейн исчезает, и на его поиски отправляется некий Трент. Выясняется, что книги Кейна действительно способны творить реальность, а он сам заявляет Тренту, что тот — не более, чем персонаж им написанного («Я мыслю — следовательно, вы существуете»). В конце концов Трент, вырвавшийся, казалось бы, из морока, оказывается в кино, где смотрит фильм по последней книге Кейна. Этот фильм — и есть «В пасти безумия», который одновременно смотрим и мы, — соответственно, он видит на экране самого себя и тот самый диалог с Кейном, во время которого и говорит писателю, что «это не реальность».

Здесь можно выделить сразу несколько сосредоточий ужаса. Во-первых, отрицание свободной воли и самой человеческой агентности, даже мысль о чем живому и мыслящему человеку должна быть невыносима (слова Кейна — не что иное, как издевательство над знаменитой фразой Рене Декарта). Во-вторых, заражение медиума (книги, самого фильма) собственно кошмаром, природа которого не поддается даже описанию. Материя оказывается одержима чем-то, что «имеется» (il y a, безличное наличие), но что нельзя ни объяснить, ни представить. «В пасти безумия», среди прочего, передает также ужас от разрушения упорядоченной структуры реальности.
Weird realism и доисторическое
«Все мои рассказы основаны на единой фундаментальной предпосылке: человеческие законы, интересы и эмоции не имеют ни малейшей ценности и просто значения в космическом масштабе». Это чеканное высказывание самого Лавкрафта, которое выражает всю суть лавкрафтовского ужаса, позволяет (по мысли того же Такера) говорить о писателе как о символе революции, определяемой как «третья коперниканская». Действительно, когда-то Коперник своими открытиями убрал человека из центра Вселенной, а Кант чуть позже своей философией сделал то же применительно к мысли человека о самом себе: человек перестал ощущать себя обладателем абсолютного знания о вещах. Взамен, впрочем, он получил возможность не думать о запредельном, раз уж оно непостижимо. Но в середине 20 века вдруг оказывается, что человек лишается уже даже и этой комфортной роскоши, и произведения литературы, подобные «Зову Ктулху», символически отражают весь ужас осознания этого.
Реальностью становятся объекты, которые не могут быть ради удобства заменены, как в опытной модели, при своем описании наборами своих качеств — просто потому, что сами их качества невозможно воспринимать органами человеческих чувств. Что такое, например, квант? Доподлинно неизвестно: теория квантового дуализма — всего лишь попытка определить запредельное по аналогии. И в том же ряду — что такое «ядерный хаос Азатот»? Шогготы, только формально описываемые как бесформенная протоплазма, способная принять любую форму? Пустые имена, прикрывающие изъятие из субъект-объектных отношений реальных объектов: по той причине, что между реальным объектом и его реальными качествами — неустранимый разрыв. Писателем разрывов Лавкрафта и назвал Грэм Харман (Американский университет в Каире) — один из тех современных мыслителей, кого объединяет лозунг «Назад к вещам (и реальности)».
И недаром его работа «Weird Realism: Lovecraft and Philosophy», во многом посвященная поэтике писателя, определяет того именно как реалиста. Лавкрафта не заботило создание мнимо оригинальных фантастических декораций, надуманный жанровый канон был не для него (см. его «Заметки о фантастической литературе»). Его творчество прежде всего выражало растерянность человека от столкновения с объектами, которые не поддаются ни определению, ни даже описанию. «То, чему и имени нет», говоря лавкрафтовским языком, — это и есть разрывы в реальности, приоткрывающие ее инаковую странность.
О Лавкрафте и его «литературе сверхъестественного» часто говорят, что он опередил свое время. Мы развернем этот трюизм неожиданной, но в духе логики этого текста стороной. В 2006 году французский мыслитель Квентин Мейясу выпустил небольшое, но написанное жутко академично эссе «После конечности», которое просто сотрясло застоявшуюся академичность и повлияло на большинство упомянутых в статье авторов. В ней он по-новому повторил положение лавкрафтовского пессимизма, согласно которому научное знание бессильно объяснить нам «загадку жизни и ее происхождение». Он назвал это — проблемой доисторического: мир предшествовал возникновению человеческого отношения к миру, и поэтому теперь, говоря о каком-либо научном факте (установленный возраст Земли, например), человек вкладывает в факт также и свое отношение к данности мира. Выходит, факт получает смысл только в реконструкции прошлого с точки зрения человека в настоящем. Но ведь это — не истина о доисторическом, пишет он, это — только кажимость того, что было на самом деле, — полученная за счет переноса в прошлое того, что дано в настоящем. Собственно, эта же проблема — центральная и в творчестве Лавкрафта: как человеку с его ограниченным человеческим опытом понять то, что «за пределами», но что, так или иначе, оказывает влияние на него самого.
***
На этом мы завершим нашу не самую обычную статью. Писалась она вовсе не в стремлении «просветить» или что-то там «продемонстрировать». Автор единственно стремился донести до читателя нехитрую мысль: нет непреодолимых барьеров, поэтому не стоит бояться или чураться интервенций в мнимо «закрытые области». Видеоигры давно стали важной частью культуры, так почему бы и их не вывести на орбиту современной интеллектуальной мысли, позволив еще и так раскрыть свой недюжинный потенциал. Игроделам же, в свою очередь, не грех присмотреться к достижениям актуальной спекулятивной философии — ведь возможностей для моделирования того же Внешнего Мейясу у них куда как больше, чем у писателей и киношников.
U$D


